Факультет в Великой Отечественной войне
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и философы МГУ в годы Великой Отечественной войны
События, происходившие на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в годы Великой отечественной войны, во многом были обусловлены предшествующей историей развития философии в СССР. В то же время, на учебно-преподавательский и научно-исследовательский процессы на факультете свой властный неизгладимый отпечаток, конечно, наложила война. Ведь Великая Отечественная война в том числе была великим сражением за саму идею просвещения. Недаром венгерский философ Георг Лукач, которого Н.А. Бердяев считал «самым умным из коммунистических писателей», и который тогда жил в СССР, назвал свою вышедшую в 1943 году книгу «Борьба гуманизма и варварства».
В годы великой войны философы, обычно воспринимаемые как сугубо кабинетные мыслители, оказались на фронте не только идейном, но и военном: они водили солдат в атаки, спасали книги из огня, лечили раненых и вели интеллектуальную войну с фашистской идеологией.
Достаточно для начала сказать, что на полях самой страшной войны в истории человечества пало чуть менее двухсот преподавателей, аспирантов и студентов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В «Книге памяти преподавателей, аспирантов и студентов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, павших в Великой Отечественной войне (1941–1945)», вышедшей к 80-летию великой Победы в 2024 году, приведены биографические справки о 183 погибших и пропавших без вести.
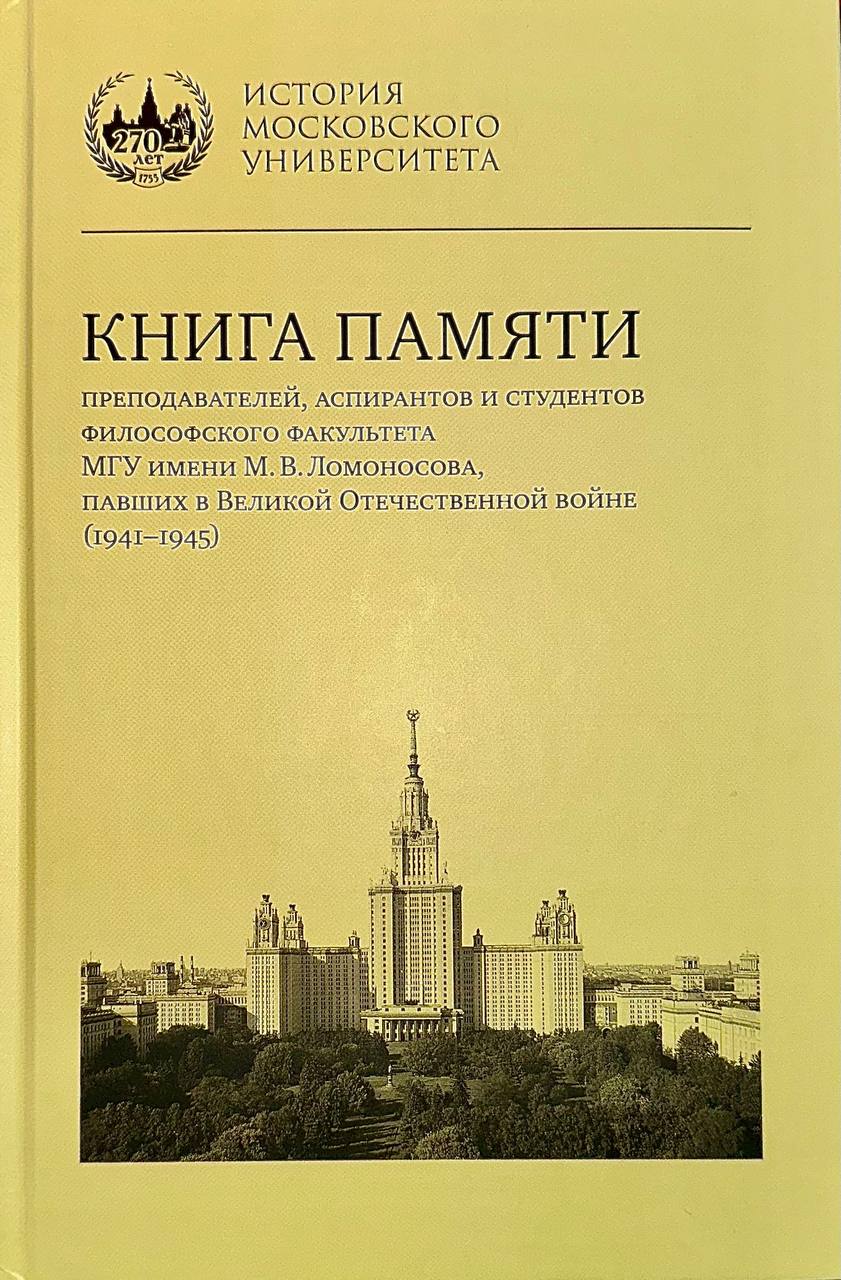
Философия в СССР и в Московском университете в довоенный период: краткий экскурс
После победы большевиков в Гражданской войне марксизм стал официальной доктриной правящей партии, а в области философии начались процессы ее тотальной идеологизации. Государственная политика 1920–1930-х годов была направлена на подавление отличной от марксизма философии. В сентябре-декабре 1922 года происходит высылка на «философском пароходе» ученых и писателей, выступавших против новых порядков; оставшиеся философы «идеалисты» будут часто подвергаться гонениям, вплоть до арестов и смертных приговоров. Основным философским событием 1920-х годов была дискуссия, возникшая между «механистами», считавшими, что не существует отдельной от науки философии, и что диалектика представляет собой обобщение законов естествознания, и школой А.М. Деборина – «диалектиками», отстаивавшими самостоятельный статус философии. Данная дискуссия переродилась в откровенные обвинения сторонами друг друга в идеализме и антимарксизме, с активным использованием административного давления. В итоге к 1929 году победу одержали «диалектики», правда, временную. Менее чем через год школа Деборина была разгромлена и оттеснена с административно-академических вершин молодыми философами-сталинистами, исполнившими приказ Сталина о полном подчинении академической философии партийному руководству и текущему политическому моменту.
Эти события, казалось бы, должны были привести к полной догматизации и идеологизации академической философской жизни. Однако в СССР парадоксальным образом удалось сохранить и относительную свободу в философских исследованиях, и очень высокое качество отдельных научных исследований, прежде всего в истории философии и логике, в деятельности таких философов как А.Ф. Лосев, М. А. Лифшиц, Г. Лукач и некоторых других.
Учебный философский процесс также был организован достаточно профессионально и на высоком уровне. Тут сказывалось и то, что сам марксизм мыслил себя прямым продолжателем немецкой классической философии.
История философского факультета до его воссоздания в системе МГУ в декабре 1941 года была полна бурных преобразований. В 1919 году историко-филологический факультет Московского университета, где велась подготовка философов, был расформирован, а взамен был создан факультет общественных наук с кафедрой философии, направленной на распространение марксизма, без подготовки новых кадров. Но в 1926 году подготовка философов возобновляется на историческом, а в следующем году на этнологическом факультетах. В это время из Киева для работы в Московском университете приглашается В.Ф. Асмус. В 1930 году этнологический факультет преобразовывается в факультеты литературы и искусства и историко-философский. В 1931 году эти факультеты были выделены в отдельное учебное заведение – тот самый «лицей в Сокольниках», легендарный Московский институт философии и истории, а впоследствии Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Он стал оазисом гуманитарного образования и гуманитарных наук в сталинской Москве. Среди известнейших его выпускников или тех, кто там учился, но война не дала его закончить, – Г.С. Кнабе (историк-античник), П.Д. Коган (поэт, погиб на войне в возрасте 24 лет), А.Ч. Козаржевский (филолог и историк), М.В. Кульчицкий (поэт, погиб на войне в возрасте 22 лет), Ю.Д. Левитанский (поэт), Л.З. Лунгина (переводчица), Е.М. Мелетинский (литературовед и мифолог), Т.И. Ойзерман (философ), Г.С. Померанц (философ), Д.С. Самойлов (поэт), К.М. Симонов (писатель), Б.А. Слуцкий (поэт), А.И. Солженицын (писатель, учился заочно), А.Т. Твардовский (поэт), и многие другие.
Обратное слияние МИФЛИ и Московского университета произошло уже после начала войны. Хотя приказ о создании философского факультета МГУ датируется декабрем 1941 года, студентам МИФЛИ еще в сентябре сказали, что их институт будет слит с Московским университетом. Об этом пишет Б.В. Бирюков в книге «Трудные времена философии. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы».
Начало войны: вставай, страна огромная!
В июне 1941 года деканом философского факультета МИФЛИ был Фёдор Игнатьевич Хасхачих (1907–1942), происходивший из семьи греческих крестьян-переселенцев и получивший после гражданской войны юридическое образование в Московском университете. Им уже была подготовлена докторская диссертация, но он не успел ее защитить из-за начавшейся войны. В то время Федор Игнатьевич Хасхачих был уже известным ученым: его книга «Курс диалектического и исторического материализма», изданная еще в 1940 году, пользовалась большим уважением среди студентов и преподавателей общественных наук. Хасхачих 22 июня 1941 года собрал в Институте митинг, на котором призвал коллектив факультета встать в ряды защитников Отечества и сам подал пример, не воспользовавшись предоставленной ему отсрочкой «от призыва в военное время до особого распоряжения» (такая запись за 1940 год значилась в его личном деле).

Вместе с другими преподавателями и студентами МИФЛИ Ф.Х. Хасхачих добровольно ушел на фронт. Бывшие студенты – будущие доктора философских наук - А.П. Серцова и Г.Д. Карпов вспоминают:
«Мы оба, бывшие студенты МИФЛИ, находились рядом с деканом и можем засвидетельствовать и по дневным наступлениям и по ночным атакам, с каким бесстрашием участвовал в боях наш любимый учитель. В мирные предвоенные годы мы не могли даже предположить, что на фронте сложатся такие близкие, братские отношения между нами, студентами, и нашим наставником-деканом. Но это было так. Сейчас даже трудно себе представить, как в населенном пункте, только что освобожденном от немецких захватчиков, в развалинах льнозавода, в грязном полуподвальном помещении, защищавшем нас от осколков фашистских мин, наш декан говорил бойцам, бесконечно уставшим от непрерывных боев, недоеданий, вдохновляющие слова об освободительной миссии Красной Армии. Его уверенный тон, страстная убежденность придавали силы бойцам, поднимали их на штурм вражеских укреплений. Мы размышляем сейчас о том, что, по-видимому, это был единственный за всю историю случай, когда декан философского факультета с оружием в руках отстаивал те идеи, которые были его призванием».
Вот как о начале войны вспоминал В.В. Соколов: «Разразилось 22 июня 1941 г. Огромный взрыв патриотизма. И вот я вместе с десятками других студентов ИФЛИ побежал в военкомат и записался добровольцем». О том же рассказывал А.М. Ковалев, тоже учившийся на философском факультете МИФЛИ:
«Молотов выступает, я каждое слово до сих пор помню. И мы сразу же поехали в свой институт. Там собрались комсомольцы, и мы подали заявление о том, что мы добровольцами уходим в армию. Никто не давил, никто не заставлял. В конце июля нас вызвали в военкомат. И всех посылают в военное училище, потому что мы уже имели незаконченное высшее образование. Когда дошла очередь до меня, я сказал: “Я прошу меня послать скорее на фронт, не посылать в училище, я сколько нужно отвоюю”. — “А почему?” — подполковник спрашивает. “Я боюсь, что меня потом могут сделать офицером, меня не отпустят из армии, а я хочу снова на философский факультет”».
В Сокольниках еще в первые дни войны был организован Первый истребительный батальон, состоявший из студентов и преподавателей-мифлийцев, который возглавил Ф.И. Хасхачих. Его боевой задачей было тушение пожаров от зажигательных бомб на московской окружной железной дороге — особо охраняемом участке столицы.
В октябре 1941 года этот батальон был включен в состав 7-го полка 5-ой стрелковой дивизии Московского народного ополчения. В феврале 1942 года эти полк и дивизия были переведены на Калининский фронт. Прямо с марша дивизия предприняла наступление на мощно укрепленный пункт врага — Холмец. В ожесточенных боях погибли один за другим командир и комиссар 875-го полка, смертельно был ранен начальник штаба. Однако полк продолжал сражаться, получая приказы политработника Ф.И. Хасхачиха, взявшего командование на себя. Агитатор политчасти полка Ф.И. Хасхачих заменил сначала комиссара, а затем командира полка и поднял солдат в ночную атаку. За этот подвиг философ был награждён медалью «За отвагу».
Дивизионная газета «За Родину» неоднократно отмечала бесстрашие и храбрость воина-ученого. Профессор А.П. Серцова, свидетельница и участница того боя, вспоминала: «Навсегда запомнился нам облик спокойного и мужественного командира, умело отдававшего оперативные распоряжения, поражавшего своей храбростью». За несколько месяцев на фронте Хасхачих прошел путь от рядового до майора.
Незадолго до своей гибели Ф.И. Хасхачих написал статью «Чтобы победить врага, надо научиться его ненавидеть», в которой писал:
«Красная Армия уничтожает немецких солдат не потому, что они немцы, она их уничтожает как оккупантов, которые с оружием в руках хотят поработить народы нашей страны».
Выражая оптимизм, непоколебимую веру в победу над врагом, он писал:
«Пройдет время. Окончится война. Могилы фашистов зарастут чертополохом… Вновь засияет солнце для нас. Его живительные лучи будут светить ещё ярче. Жизнь будет бить ключом. Она будет ещё богаче и прекраснее, чем до войны».
Текст статьи нашли в его вещмешке. Ф. Х. Хасхачих похоронен вместе со своим отрядом в братской могиле в Пустошке.
Фронтовики, пропагандисты, разведчики
Многие мифлийцы остались в Москве и обороняли столицу на фронте и в тылу. Студенты МИФЛИ участвовали в в строительстве оборонительных рубежей Москвы.
Г. А. Оганян окончил философский факультет МИФЛИ в 1937 г. После защиты диссертации об Аристотеле он преподавал философию в Омском пединституте. 24 июня 1941 г. на партийном собрании института он выступил и выразил желание немедленно идти в ряды Красной армии. Погиб он в 1944 г. в Польше. Молодой врач И.Ю. Давыдов был женат на дочери бывшего декана философского факультета МИФЛИ Т.Д. Павлова. Вместе с женой он 23 июня 1941 г. пришел в военкомат.
Над философами посмеивались. Ю.И. Давыдов вспоминает:
«В роте много студентов Института истории, философии и литературы. Они любят порассуждать. Не случайно в батальоне 103 их добродушно-иронически называют философами».
Когда наступил решающий момент в октябре — ноябре 1941 г., возьмут немцы Москву или нет, именно эти студенты и аспиранты, молодые преподаватели философского факультета и научные сотрудники Института философии вместе с другими людьми Московского университета были среди тех воинов Красной армии, кто отстоял столицу.
У города Ельня (в юго-восточной части Смоленской области, около 300 км. от Москвы) установлен памятник «Пушка» в честь ополченцев 8-я Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы и погибших в войне студентов, аспирантов и сотрудников Московского университета. Осенью 1941 года под Ельней проходили ожесточенные бои. В них сражались 9-я Кировская и 8-я Краснопресненская дивизии народного ополчения Москвы. В составе последней воевали 5,5 тысяч человек, в числе которых – 1065 студентов, аспирантов, а также преподавателей, профессоров и известных ученых МГУ.
В.Ж. Келле, будущий доктор философских наук (в довоенном 1940 г. он получил стипендию имени Чернышевского за неизменно отличную учебу), был представлен к ордену Красной Звезды. Командир огневого взвода Келле в бою за деревню Липны под пулеметным и минометным огнем противника прямой наводкой подавил огонь двух пулеметных точек, уничтожил автоматическую пушку и наблюдательный пункт и обеспечил прорыв немецкой обороны. Параллельно он экстерном заканчивал философский факультет.
А.Ф. Жидкова в 1935 г. окончила аспирантуру философского факультета МИФЛИ. В 1939 г. получила звание доцента. В 1940 г. она выпустила сборник текстов по античной философии (совестно с Н.Г. Таракановым, под редакцией Г.А. Александрова). В первые дни войны Анна Фёдоровна пришла в военкомат с просьбой послать ее добровольцем на фронт. Дежурный по военкомату ответил:
— Философы нам не нужны.
— Теперь у нас у всех одна философия — борьба против общего врага.
— Вот была бы у Вас какая-нибудь военная специальность.
— А какие специалисты Вам нужны?
— Всякие. Хотя бы медицинские сестры.
— Хорошо, я стану медицинской сестрой.
В тот же день она записалась на трехмесячные курсы медсестер. Её направили в санитарный взвод ополченческой дивизии. Но она хотела непосредственно участвовать в боях. Освоила пулемет, и ее зачислили в зенитный пулеметный расчет. Она работала старшим политруком, инструктором политотдела 130-й стрелковой дивизии. Погибла в бою. Награждена орденом Красного Знамени (1942, посмертно).
Аспирантка философского факультета МИФЛИ В.И. Стружкова на фронте была избрана парторгом артиллерийского дивизиона. Но она не ограничила свою работу сферой пропаганды. В 1943 г. в одном из боев она приняла на себя командование орудием при отражении контратаки пехоты противника. В 1944 г. ее дивизион отражал атаку 100 немецких танков.
Г.В. Гордиевич в 1938 г. поступила на философский факультет МИФЛИ. В институте училась на «отлично» и «хорошо». На экзамене по античной философии у Б.С. Чернышева получила оценку «отлично»; на экзамене по философии Нового времени у Д.Ю. Квитко — «хорошо». В июне 1941 г. окончила двухгодичные курсы медицинских сестер и добровольно ушла в армию. В 1942 г. под Сталинградом была тяжело ранена. Г.В. Гордиевич осталась с 50 ранеными в деревне Петровка. Галина воодушевляла раненых бойцов, взяла на себя руководство боем. Немецкие автоматчики под прикрытием танков приближались к дому.
«“С автоматом в руках Галина появлялась там, где было тяжелее всего. Меткими выстрелами она заставляла фашистов откатываться. Так длилось несколько часов. Меня полоснула автоматная очередь, и я потерял сознание”. Позже выяснилось, что фашисты ворвались в дом, в упор расстреливали раненых. “ — Меня охватил ужас, — вспоминал Павенский. — Среди обломков мебели, посуды, штукатурки лежали убитые бойцы. А на моей кровати — исколотая штыками девушка. Фашисты вырезали на ее теле кресты”».
Факультет в эвакуации
К осени 1941 года немецкие войска стояли у ворот столицы, и 18 ноября первый эшелон с сотрудниками МГУ — 300 студентов, 72 профессора, их семьи — отправился в эвакуацию в Ашхабад. Вслед за ним эвакуировали и Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ), созданный в 1931 году как альтернатива «буржуазным» академическим традициям. В составе МИФЛИ на тот момент находился и философский факультет.
Историк и философ по образованию, И.С. Галкин как и. о. ректора МИФЛИ «привёз» институт в Ашхабад. В 1943 г. он станет ректором МГУ. А 28 ноября 1941 года МИФЛИ был включен в состав Московского университета. Приказом НКП РСФСР №69-к факультеты МИФЛИ — философский, филологический, экономический — были официально включены в структуру МГУ. Так философский факультет, которого в МГУ не было почти столетие, вернулся в Alma Mater.
Условия, в которых в Ашхабаде оказались ученые и студенты, были труднейшими. 800 человек разместили в школах, клубах и общежитиях педагогического института. Денег не хватало: «Продажа профессорами и студентами личных вещей на “толкучке”… стала обычным явлением», — писал в декабре 1941 года и.о. ректора Михаил Филатов. Несмотря на это, уже 1 декабря начались занятия.
«Задача, поставленная правительством перед университетом, – не допустить длительного перерыва в работе, сохранить его основные кадры – успешно выполнена. Вывезенные из Москвы более 700 студентов напряжёнными занятиями наверстали упущенное из-за переезда время и сдали экзамены за истекший учебный год в большинстве своём с высокими качественными показателями. Особое же значение имеет то, что студентам–выпускникам была предоставлена возможность нормально закончить последний курс университета, в результате чего в текущем году страна получает около 200 молодых специалистов»,
– докладывал И.С. Галкин.

В декабре того же года на философском факультете были образованы кафедры истории философии, диалектического и исторического материализма. На время отсутствия Ф.И. Хасхачиха исполняющим обязанности декана философского факультета были назначен профессор И.Г. Каплан (1900–1963).
Эвакуирован был не весь университет и философский факультет появился и в Москве, а поскольку философы тогда совмещали и партийно-идеологическую работу, то некоторые значимые фигуры стали преподавать именно в столице.
В 1942 году Московский университет был перевезен из Ашхабада в Свердловск. На философском факультете была создана кафедра психологии. Начата разработка вопросов логики и изучение истории русской философии — вскоре по данным направлениям будут созданы отдельные кафедры. В этот же период на факультете короткое время существовала кафедра естествознания, упразднённая к концу года или в следующем – 1943 году.
В Москве профессорско-преподавательский состав был следующий:
– Кафедра диалектического и исторического материализма: заведующий кафедрой Г.С. Васецкий, И.Т. Иовчук, Л.Ф. Кузьмин,Г.М. Гак, Ф.В. Константинов,Ф.И. Георгиевский,Б.А. Фохт, в конце года появился А.П. Гагарин.
– Кафедра истории философии: и.о. заведующего кафедрой Г.Г. Андреев, В.Ф. Асмус (к концу года был переведен на диамат)
– Кафедра естествознания: заведующий кафедрой А.А. Парамонов, С.С. Васильев, В.П. Минорский.
В 1942 году деканом философского факультета стал профессор Г.Г. Андреев (1910–1996). Он успел защитить кандидатскую диссертацию («Философские и исторические взгляды П.Л. Лаврова») за считанные месяцы до начала войны, а октябре 1941 г. добровольно вступил в народное ополчение. Рядовой, затем командир отделения автоматчиков 1-го стрелкового батальона 7-го стрелкового полка 5-й Московской стрелковой дивизии Московской зоны обороны. С октября 1941 г. по февраль 1942 г. батальон занимал оборону под Москвой в районе Воронцовского совхоза на Калужском шоссе. Г.Г. Андреев был награжден орденом Отечественной войны (II ст.), медалью «За отвагу».
В декабре 1942 г. он был вынужден прервать работу на факультете в качестве декана в связи с важной миссией: он был назначен атташе Миссии СССР в Лондоне (1942–1943). Но в декабре 1943-го Андреева арестовали по абсурдному обвинению в «антисоветской пропаганде». Особое совещание НКВД приговорило его к 8 годам лагерей. Лишь в 1955 году Верховный суд отменил приговор «за отсутствием состава преступления».
Состав филиала философского факультета в Ашхабаде и Свердловске был значительно меньше:
– Кафедра диалектического и исторического материализма: и.о. заведующего кафедрой И.Г. Каплан, В.И. Мальцев, В.Г. Фридман.
– Кафедра истории философии: заведующий кафедрой Б.С. Чернышев, Я.Л. Бограчев, А.Р. Романенко.
К концу года 1942 года в Ашхабаде осталось всего три человека: Каплан, Фридман и Романенко, так как работавший еще в МИФЛИ профессор Д.Ю. Квитко умер в начале года, Чернышев был вызван в Москву, а Бограчев и Мальцев были призваны в РККА.
Возвращение факультета из эвакуации
В 1943 году начинается возвращение Московского университета из эвакуации обратно в Москву. В этом году на философском факультете появляется кафедра педагогики (в 1942 году кафедра педагогики, как и кафедра психологии, числились общеуниверситетскими кафедрами).
Появляется и такая новая важная кафедра, как кафедра истории русской философии. Ее создают в рамках большого патриотического подъема, который произошел в годы войны. Поэтому кафедра истории философии делится на кафедры истории русской философии и истории западной философии.
Также в 1943 году утверждена кафедра логики.
В это время сменилось сразу два декана: в первой половине года вместо Г.Г. Андреева был назначен Б.С. Чернышев (1896–1944), в 1928 году, защитивший кандидатскую диссертацию о софистах. Она вышла отдельной книгой, этой же работой Б.С. Чернышев защитил докторскую диссертацию в 1942 году. Но Чернышев скоропостижно умрет от инфаркта в 1944 году, подкошенный лишениями войны и несправедливой критикой своей научной работы со стороны партийного руководства.
Еще до своей смерти, в конце 1943 года Б.С. Чернышев как декан был заменен доцентом Д.А. Кутасовым (1904–1968). Почти 15 лет Д.А. Кутасов работал доцентом кафедры диалектического и исторического материализма философского факультета МИФЛИ. Он и провел факультет до самой Великой Победы и возглавлял его до 1949 г.
В 1944 году на философском факультете был установлен новый срок обучения в 5 лет и проведены две большие научные конференции о роли русской науки в истории развития мировой науки и культуры и конференция по психофизиологическим проблемам восстановления функций после военной травмы. К концу года также вышла учебная программа по психологии.
Будущий знаменитый отечественный философ В.В. Соколов, награжденный за участие в боях за Москву орденом Красного Знамени и за отражение танковых атак под Воронежем – орденом Отечественной войны I степени, в 1943 году получил отпуск по ранению. Он вернулся в Москву и, сдав все предметы учебного плана по философии и 5 государственных экзаменов, в июне 1943 года стал единственным выпускником.
В.В. Соколов вспоминает:
«В 1944–1945 годах на факультете работали два аспирантских семинара — по истории философии, которым руководил Б.С. Чернышев (вплоть до его смерти), и по диалектическому и историческому материализму, которым руководил З.Я. Белецкий. Кроме меня в этих семинарах участвовали М. Ковальзон, Ш. Герман, Е. Куражковская, Д. Кошелевский, А. Серцова, А. Никитин; позже присоединился В. Келле, демобилизованный после госпиталя. Семинары работали активно».
К 1945 году на философском факультете уже идет полноценная преподавательская и научно-исследовательская работа. На кафедре истории русской философии составлена учебная программа по истории русской философии и выпушен сборник в 2-х томах «О русской философии». На кафедре западноевропейской философии были написаны несколько монографий: доцентом М.Ф. Овсянниковым «Система и метод философии Гегеля», профессором М.А. Дынником «Французская философия 1-й половины 19 века», а профессором О.В. Трахтенбергом «Английская философия конца 18 в. – 1-й пол. 19 века» и «Философия Фихте».
В следующим 1946 году произойдет общая демобилизация и на философский факультет в аспирантуру поступят в том числе вернувшиеся с фронта Э.В. Ильенков и А.А. Зиновьев, которые скоро станут знаменитыми философами. В годы войны Э.В. Ильенков воевал в артиллерии, войну закончил в звании младшего лейтенанта в Берлине, где посетил могилу Георга Фридриха Вильгельма Гегеля и возложил на неё цветы.
Наиболее важные события и достижения философского факультета в годы Великой отечественной войны
Отдельно стоит рассмотреть наиболее важные события в жизни философского факультета времен Великой Отечественной войны.
Еще до войны принятое ЦК ВКП (б) решение о возвращении преподавания логики в школы и вузы привело к появлению кафедры логики на философском факультете. А начавшийся тоже еще до войны консервативный патриотический поворот (насколько позволял марксизм) к русским национальным традициям, усилившийся после 1941 года, привёл, в частности, к тому, что на факультете создается кафедра истории русской философии.
Важное место в жизни факультета в годы войны заняла и работа над многотомным изданием «Истории философии», три тома которого получили Сталинскую премию в 1943 году.
И, конечно, отдельно стоит упомянуть ту работу в философии и истории философии, которая была продиктована необходимостью философско-идейной борьбы с фашистской идеологией, а также проблемы реабилитации раненых, разрабатывавшиеся психологами в Московском университете.
Рассмотрим наиболее значимые события и процессы на факультете в годы войны по порядку:
1) Подготовка к преподаванию формальной логики в системе высшего и среднего образования и возвращение на факультет А.Ф. Лосева и П.С. Попова
Раньше философское образование в стране на какое-то время было почти полностью сведено к диалектическому и историческому материализму. Из философии были полностью исключены многие курсы, в том числе и по формальной логике. Осознание недостатков такого преподавания привело к тому, что в 1941 году ЦК ВКП (б) постановляет вернуться к преподаванию формальной логики и психологии в школах и вузах. Тогда еще в МИФЛИ для преподавания логики был приглашен профессор В.Ф. Асмус (1894–1975) получивший философское образование в Киевском университете и учившийся еще у дореволюционной профессуры.
Декан Г.Г. Андреев принял решение привлечь для преподавания философов с еще дореволюционным образованием, его выбор пал на П.С. Попова (1892–1964) и А.Ф. Лосева (1893–1988). Они были товарищами, совместно окончившими философское отделение в 1915 году. О том, что ему удалось в годы войны привлечь к работе на факультете таких выдающихся философов, Г.Г. Андреев вспоминал с гордостью до конца своей жизни.
Павел Сергеевич Попов – ученик Л.М. Лопатина и Г.И. Челпанова, друг М.А. Булгакова, в 20-е годы совместно с А.Ф. Лосевым входил в имяславский кружок. В 1943 году он защитил кандидатскую диссертацию по Аристотелю и до конца жизни преподавал на философском факультете МГУ.
Алексей Федорович Лосев кроме философского получил также и классическое филологическое образование (античная литература и древние языки). Познакомившись с отцом Павлом Флоренским, он стал сторонником имяславия. В 1920–30 годы Лосев выпустил восемь книг (знаменитое «восьмикнижие»), где разработал собственную оригинальную философию античности, художественного творчества и символизма. В восьмой книге – «Диалектике мифа» – он осуществил критику советской и коммунистической мифологии, провел критику советской власти, за что был приговорен к 10-ти годам лагерей, но выпущен из заключения через три года по завершении строительства Беломоро-Балтийского канала. После возвращения из лагеря ему запретили работать в области собственно философии, но разрешили в области эстетики и классической филологии. Про себя он говорил, что знает марксизм лучше марксистов. В 1986 году А.Ф. Лосев был удостоен Государственной премии СССР за I–VI тома своей знаменитой многотомной монографии «История античной эстетики».
В Московском университете А.Ф. Лосев в годы войны (1942–1944) заведовал секцией логики на кафедре диалектического и исторического материализма, которой руководил З.Я. Белецкий (1901–1969). Белецкий был медиком по образованию, и получил звание профессора без защиты докторской диссертации. Лосев вел семинар по логике Гегеля и спецкурс по логике Канта, Гегеля, неокантианцев и Гуссерля. В 1943 году было принято решение о создании кафедры логики на философском факультете, и Лосев подал заявление на занятие должности заведующего кафедрой, но этому воспротивилось партийное руководство.
Какое-то время место заведующего кафедрой логики оставалось не замещенным, в начале 45-го года исполняющим обязанности заведующего был назначен П.С. Попов. Полноценно Павел Сергеевич будет назначен на должность только в 1947 году (Лосев полагал, что его увольнение произошло не без участия Попова), но проработает всего год, переведенный на должность профессора за формализм в логике.
Важнейшим этапом возвращения логики как учебного предмета в среднее и высшее образование в СССР была работа над учебниками для школы, в которой принимали участие и сотрудники философского факультета. В 1942 году под патронажем Института философии АН СССР вышел в 100 экземплярах учебник логики В.Ф. Асмуса, в том же году положительный отзыв на него дал П.С. Попов. В январе 1943 года состоялось обсуждение этого учебника на кафедре логики в МГУ, а 31 мая и 11 июня было проведено и обсуждение в Институте философии. В нем приняли участие А.П. Гагарин, М.М. Розенталь, П.С. Попов, А.Ф. Лосев и др., отметившие как достоинства учебника, так и выступившие с некоторой критикой, к примеру, Лосев отмечал, что: «...учебник Асмуса слишком формалистический, несмотря на литературные достоинства…». В результате книга была отправлена на доработку.
С основания кафедры логики на ней велась работа над собственным учебником, старший преподаватель С.Н. Виноградов (1881–1954) подверг глубокой переработке учебник, выпушенный им еще в 1914 году, редакторскую роль исполнял все тот же П.С. Попов. Разработка «Учебник логики для средней школы» во время войны регулярно попадала в ежегодные отчеты по научной работе на факультете, но то, что она там встречается несколько раз, говорит, что учебник долго не принимался.
Полноценное издание книг Виноградова и Асмуса начнется только в 1947 году, когда и будет введено преподавание логики в школе. Бытует легенда, что однажды Асмус был привезен в кабинет к Сталину или, по другой версии, Молотову, который сообщил, что члены Политбюро и Правительства совершенно не знают логики и попросил прочитать им краткий курс. После прочитанной лекции и было принято решение о преподавании логики в школе. Но, по всей видимости, это всего лишь легенда, так о ней говорит сын философа, священник Валентин Асмус.
2) Создание на факультете кафедры истории русской философии
В 1943 году на философском факультете учреждена кафедра истории русской философии, которую возглавил М.Т. Иовчук (1908–1990), член философской «группы Александрова», защитивший в 1938 году кандидатскую диссертацию о философских и социально-политических взглядах В.Г. Белинского. Иовчук вел занятия по истории русской философии в Высшей партийной школе и в соавторстве с Г.С. Васецким в 1941 г. опубликовал стенограммы лекций, а затем и книгу «Очерки по истории русского материализма ХVIII и XIX веков» (М., 1942). В 1944 г. он недолго был ответственным редактором журнала «Под знаменем марксизма» перед его закрытием.
Иовчук и стал первым заведующим кафедрой истории русской философии. К ней отошла вся проблематика, связанная с историей марксизма и материализма в России: Герцен, Огарев, русские литературные критики, народничество, Чернышевский, Плеханов, Ленин и Сталин. Однако этим темы исследований не ограничивались – на кафедре писались работы, посвященные Соловьеву, Добролюбову, Толстому, Ломоносову.
В 1945 году был напечатан проект программы нового курса по истории русской философии, в рамках которого было уделено пусть и небольшое место изучению философов-идеалистов: В.С. Соловьева, Б.Н. Чичерина, С.Н. Трубецкого и писателя Л.Н. Толстого . По всей видимости не последнее место во включении этих философов в программу сыграл В.Ф. Асмус, в 1943–44 годах числившийся именно на кафедре истории русской философии и писавший в это время про В.С. Соловьева и Л.Н. Толстого. Асмус в дальнейшем будет переведен на кафедру западноевропейской философии.
3) Работа над томами «Истории философии»
Одна из наиболее важных разработок по философии того периода была работа над тремя томами «Истории философии».
Этот проект был начат Институтом философии еще до войны, в 1940 году. Всего планировалось издать семь томов фундаментальной «Истории философии». Этот огромный труд готовился для философского образования, но и для удовлетворения мировоззренческих интересов широкой публики. Такого рода книг в советские времена ещё не было, а дореволюционные найти было уже трудно.

Половина объема третьего тома, который был закончен в 1942 г., была посвящена немецкому идеализму. Коллектив авторов, в том числе Асмус, написавший раздел о Канте, и Б.С. Чернышев, автор глав по античной и гегелевской философии, за создание этих трех томов был награжден Сталинской премией, высшей наградой за достижения в области науки. Лауреаты-соавторы (всего 15 человек) передали всю денежную сумму премии в Фонд Обороны.
Книги имели серые обложки и за них студенты прозвали их «серой лошадью», поскольку они «выносили» при подготовке к экзаменам. Его редакторами были Г.Ф. Александров (1908–1961) – доктор философских наук, партийный деятель автор книги про Аристотеля и в будущем министр культуры; М.Б. Митин (1901–1987) – доктор философских наук академик АН СССР; П.Ф. Юдин (1901–1987) – доктор философских наук, на тот момент член корреспондент АН СССР; Б.Э. Быховский (1901–1987) – доктор философских наук с 1941 года. Редактирование занимался в основном Быховский, поскольку остальные трое были партийными деятелями.
Несмотря на Сталинскую премию, на третий том начались идеологические гонения в следующем – 1944 году. Он был посвящён европейской философии до середины XIX века, с фокусом на немецкой классической философии и в особенности на Гегеле. Авторами этого тома были Быховский и Чернышев, довольно подробно изложившие основные положения Гегелевского учения, как создателя диалектической логики и предшественника марксизма. Авторы не учли, что издание происходит во время войны с Германией, а одной из вершин развития абсолютного духа, Гегель признавал именно немецкую государственность и немецкий народный дух. Это использовал профессор философского факультета З.Я. Белецкий, зав. кафедрой диалектического материализма, написавший письмо Сталину, в котором выставил Гегеля предвестником немецкого фашизма и разжигателем войны (Гегель действительно положительно высказывался о войнах для развития нации) и свел всю его философию к идеализму. Белецкий обличал авторов в утрате классового чутья. В результате немецкая классика была объявлена «аристократической реакцией» на французскую буржуазную революцию.
В 1944 году состоялось обсуждение этого вопроса в секретариате ЦК при участии Г.М. Маленкова и А.С. Щербакова. Несмотря на то, что Быховский, Асмус и Чернышев настаивали на некомпетентности Белецкого, это не дало положительных результатов. Сталин, считавший Гегеля реакционером, поддержал Белецкого, что привело к снятию Сталинской премии с третьего тома «Истории философии» и прекращению работы над планировавшимся четвертым томом (премию третьему тому вернули уже после смерти Сталина). Как считается, именно эти события стали причиной преждевременной кончины Чернышева, умершего в 1944 году от сердечного приступа. Как рассказывала супруга Б.С. Чернышева Анна Георгиевна, которая работала старшей лаборанткой на факультете, Борис Степанович очень остро переживал эту несправедливую критику. Он серьезно заболел и, вероятно, под влиянием этих нападок безвременно скончался в сентябре 1944 г.
4) Философская война с фашистской идеологией
Также в условиях войны сотрудники факультета стали работать над темами и проблемами, связанными с необходимостью идеологического обоснования справедливого характера войны, которую вел советский народ.
Так что в те годы даже история философии внезапно стала полем сражения. Философам предстояло решить сложную задачу: как великая немецкая классическая философия, давшая начало марксизму - ведущей идеологии Советского Союза – оказалась аппроприированной человеконенавистнической идеологией фашизма, и как отвоевать ее обратно? «Даже в философии нужно было решать, кто теперь союзник, а кто враг. Директор Института философии П.Ф. Юдин, чувствуя запрос со стороны партии, писал коллегам в эвакуации, что в существующих условиях надо с особым вниманием отнестись к немецкой буржуазной философии. Это означало, что нужно, с одной стороны, противопоставить великую философскую классику нацистской идеологии, а с другой – выявить в истории немецкой мысли и культуры корни гитлеризма».
В плане по научной работе на 1942 год философского факультета МГУ указаны следующие приоритетные темы: разработка вопросов логики, изучение истории русской философии, тема «философия и война».
В 1942 году профессор В.Ф. Асмус выпускает книгу «Фашистская фальсификация немецкой классической философии», в которой разоблачает неверные и предвзятые трактовки философов немецкого идеализма (Кант, Фихте, Гегель) фашистскими идеологами. В научном отчете МГУ за 1942 год по философскому факультету эта работа была названа одной из самых важных.
Также Асмус в 1942 году публикует в журнале «Под знаменем марксизма» статью «Фихте действительный и фашистский миф о Фихте».
Эту работу поддержал венгерский философ Георг (Дьёрдь) Лукач, защитивший в Москве в 1942 году диссертацию о «Молодом Гегеле».
5) Психология на философском факультете МГУ против последствий войны
Пока одни философы сражались на передовой, другие боролись за восстановление раненых. В октябре 1942 года на философском факультете МГУ создали кафедру психологии под руководством Сергея Леонидовича Рубинштейна, в которую вошел Психологический институт (выведенный из состава МГУ в 1926 г.), остававшийся в тот период главным центром научных исследований в психологии.
Еще ранее, в июне 1941 г. выдающийся отечественный психолог А.Н. Леонтьев, с 1941 г. сотрудник Психологического института, временно находившегося в составе университета, записался добровольцем в составе 8-ой Краснопресненской дивизии народного ополчения. 19 июля 1941 г. группа психологов вместе с А.Н. Леонтьевым была отозвана в Москву.
Вместе с МГУ Леонтьев с коллегами был эвакуирован в Ашхабад, а затем в Свердловск. Под Свердловском, в Кисегаче и Кауровске, были созданы два экспериментальных госпиталя. Первым, занимающимся черепно-мозговыми травмами, в качестве научного консультанта руководил А.Р. Лурия, вторым, исследующим повреждения верхних конечностей, – А.Н. Леонтьев. Леонтьев вспоминал: «В годы 1942–1944 я переключился на работу, которая была подсказана требованиями войны: организовал опытный восстановительный госпиталь под Свердловском (ЭГ 4008), был назначен его руководителем и развернул по заданию ГКО исследовательскую работу по психофизиологическим и психологическим проблемам восстановления функций после ранения».
Александр Лурия, Алексей Леонтьев и Александр Запорожец разрабатывали методы реабилитации бойцов с ампутированными конечностями и тяжелыми травмами. Общее руководство осуществлял А.Н. Леонтьев (впоследствии заведующий кафедрой психологии на философском факультете МГУ (1951), первый декан факультета психологии МГУ (1966)). Их подход был революционным: вместо механических упражнений они использовали трудотерапию — например, обучение письму или работе с инструментами.
В предельно короткие сроки учеными были достигнуты значимые практические, научные и методические результаты работы. Так, Б.Г. Ананьев занимался восстановлением утраченных функций (слуха и речи) при посткоммоционно-контузионных состояниях и черепно-мозговых травмах и ранениях. А.А. Леонтьев совместно с А.В. Запорожцем разрабатывали идею восстановления движений руки после ранения, высказанную А.Р. Лурией. К этой работе присоединился и В.С. Мерлин, который занимался также внутренними конфликтами у раненых, возникшими в результате полной утраты зрения.
Результаты легли в основу монографии А.Н. Леонтьева и А.В Запорожца «Восстановление движения» (1945), ставшей классикой мировой психологии.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для философского факультета МГУ, но также и временем, когда его преподаватели, студенты и выпускники проявили невероятное мужество и преданность Родине. Они сражались на фронте, работали в тылу, вели идеологическую борьбу с фашизмом, спасали раненых и сохраняли культурное наследие. Философы, которых часто воспринимали как кабинетных мыслителей, доказали, что их знания и убеждения являются мощным оружием в борьбе за Великую Победу. Самоотверженная верность своему призванию всегда была лейтмотивом их деятельности, будь то на поле боя, в эвакуации или в научных исследованиях.
Война изменила и сам факультет: он вернулся в Alma Mater - в МГУ имени М.В. Ломоносова, были созданы новые кафедры, возрождены традиции преподавания логики, усилено изучение русской и европейской философии. В тяжелых условиях войны и эвакуации философский факультет не только выстоял, но и внес значительный вклад в победу, сочетая интеллектуальную работу с практическим служением Отечеству. Память о погибших и их подвиге и наследие этих лет остается неотъемлемой частью истории факультета и нашей страны.
Авторы материала: Ю.В. Пущаев, Д.О. Фурцев




